Therapia
Легенда замедленного действия
Достаньте книжку. Прочтите. Честное слово, не пожалеете... …На фотографии он чем-то напоминает моего отца.
Тот тоже умер в 56. Только через 4 дня после своего дня рождения. Цитата из Интернет-форума, посвященного Леониду Цыпкину
«...Oдни рождаются великими, другие достигают величия, к третьим оно нисходит»1. Пути к признанию в литературе и медицине различные. И очень горько, если признание приходит, когда человека, достойного его, уже нет с нами. Наш рассказ — о Леониде Цыпкине, враче-патологоанатоме и писателе, исследователе жизни Ф.М. Достоевского, которому величие даровал случай, но, как это часто бывает, поздно.
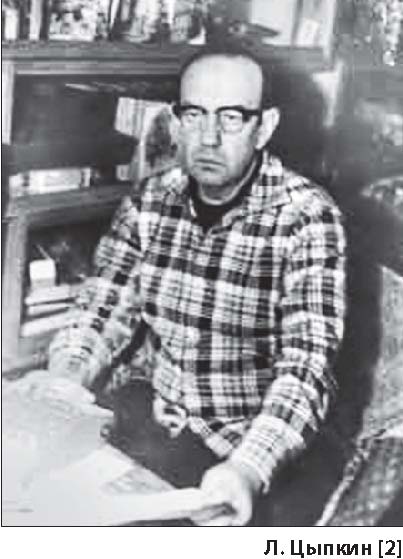 Его звезда появилась на небосводе мировой литературы в самом начале ХХІ столетия, став видимой, как часто бывает со звездами, гораздо позже своего рождения и смерти. Сегодня выдающиеся литературные критики с международными именами не скупятся на эпитеты, которые польстили бы даже очень избалованному вниманием автору. Сьюзен Зонтаг2, комментируя роман Леонида Цыпкина «Лето в Бадене», посвященный анализу личности Ф.М. Достоевского, писала, что «этот роман…, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности» [1]. Дагне Бержайте, литературовед, специализирующаяся на творчестве Ф.М. Достоевского, отметила: «Роман Цыпкина — это личное и, вместе с тем, эпохальное «свидетельство», в котором частные воспоминания и рецепции событий, личностей, рядовых или значимых для унылой советской действительности, сопоставляются, соизмеряются с авторской интерпретацией фактов из жизни Достоевского и человечества вообще» [3]. «Лето в Бадене» был назван «затерянным шедевром», «грандиозной вехой ХХ века», «самым неизвестным гениальным произведением, напечатанным в Америке за последние 50 лет» [4, 5].
Его звезда появилась на небосводе мировой литературы в самом начале ХХІ столетия, став видимой, как часто бывает со звездами, гораздо позже своего рождения и смерти. Сегодня выдающиеся литературные критики с международными именами не скупятся на эпитеты, которые польстили бы даже очень избалованному вниманием автору. Сьюзен Зонтаг2, комментируя роман Леонида Цыпкина «Лето в Бадене», посвященный анализу личности Ф.М. Достоевского, писала, что «этот роман…, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности» [1]. Дагне Бержайте, литературовед, специализирующаяся на творчестве Ф.М. Достоевского, отметила: «Роман Цыпкина — это личное и, вместе с тем, эпохальное «свидетельство», в котором частные воспоминания и рецепции событий, личностей, рядовых или значимых для унылой советской действительности, сопоставляются, соизмеряются с авторской интерпретацией фактов из жизни Достоевского и человечества вообще» [3]. «Лето в Бадене» был назван «затерянным шедевром», «грандиозной вехой ХХ века», «самым неизвестным гениальным произведением, напечатанным в Америке за последние 50 лет» [4, 5].
Известна шутка о том, что лучших писателей готовят в медицинских вузах. Знания, приобретенные врачом, позволяют ему гораздо глубже понять личность, ее слабость и ее силу. Никто не расскажет человеку о нем лучше, чем это сделает его врач. С недавних пор к таким великим писателям-врачам, как Антон Павлович Чехов, Артур Конан Дойл, Януш Корчак, Винцас Кудирка, Станислав Лем, Сомерсет Моэм, Пауль Флемминг, Михаил Афанасьевич Булгаков, Викентий Викентьевич Вересаев, Василий Павлович Аксенов и многим другим, присоединился и Леонид Борисович Цыпкин — при жизни ничем не выделявшийся среди коллег, обычный советский человек, сын своей эпохи, врач-патологоанатом. Недаром автор цитаты, вынесенной в эпиграф, видит его схожесть со своим отцом. Действительно, сидящий за рабочим столом человек с безысходностью в глазах и в очках с массивной оправой кажется родным и хорошо знакомым… дедом, отцом, коллегой.
Леонид Борисович родился в 1926 г. в Минске в семье медиков, серьезно пострадавшей от политических преследований. Его отец, ортопед-травматолог Б.Н. Цыпкин, был арестован в 1934 г., пытался покончить с собой в тюрьме, бросившись в лестничный пролет в здании минского НКВД, серьезно повредил позвоночник. Благодаря вмешательству коллеги, известного минского врача М.Н. Шапиро, он был освобожден, однако арестованным брату и двум сестрам помочь так и не удалось, они погибли. До конца жизни, несмотря на боль в спине вследствие тяжелой травмы позвоночника, отец Леонида Цыпкина продолжал стоять за операционным столом. Вероятно, вследствие этой серии арестов в детстве Леонид мечтал стать астрономом, считая эту профессию самой безобидной с точки зрения возможных репрессий.
Великая Отечественная война нанесла еще один удар по семье Цыпкиных. Перед оккупацией Минска пятнадцатилетнему Леониду и его родителям чудом удалось покинуть город. В этом им помог председатель колхоза — благодарный пациент, приказавший выгрузить из кузова грузовика несколько бочек соленых огурцов, чтобы освободить место и вывезти уважаемого хирурга и его семью. Все оставшиеся в Минске родственники Цыпкиных погибли в минском гетто.
По окончании института в 1947 г. Леонид Борисович женился, а в 1950 г. родился его единственный сын Михаил. Однако злой рок продолжал преследовать семью: уголовное дело было заведено уже против Леонида, ему грозил арест. Сгущавшиеся тучи помог развеять Владимир Васильевич Ченцов — главный врач московской областной психиатрической больницы № 2 им. В.И. Яковенко в поселке Мещерское (ныне Чеховского муниципального района Московской области), где Леонид Борисович проработал патологоанатомом до 1957 г.
Работа в отделе иммунологии и вирусологии опухолевых заболеваний Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР стала для Леонида Цыпкина подарком судьбы. Он перебрался с семьей в Москву. Интересной была и научная работа, посвященная изучению вопросов экспериментальной вирусологии, физиологии нормального и опухолевого роста клеточных культур, их реакции на вирусные инфекции, морфологии и гистологии опухолей различной локализации. Результатом этой работы стала докторская диссертация, которую он защитил в 1969 г. Казалось, злой рок отступил.
С детства Леонид был близок с тетей, сестрой матери — литературоведом и сотрудницей Института мировой литературы Л.М. Поляк и ее мужем, известным языковедом Р.И. Аванесовым. Уже в медицинском институте Леонид Борисович пробовал писать стихи, но попытки эти считал неудачными. Однако общение с родственниками, представителями литературной элиты, увлечение творчеством М. Цветаевой и Б. Пастернака сформировало уникальный стиль изложения, присущий его произведениям, изучаемый и анализируемый современными литературоведами как уникальное явление в прозе. Творческий по натуре человек, Леонид несколько раз подумывал уйти из медицины и заняться литературой, а в начале 60-х годов даже планировал поступать во ВГИК, чтобы приобрести профессию кинорежиссера. Начиная с этого времени Леонид Цыпкин пишет яркие, эмоциональные стихи. Однако они никогда не публиковались. Немалое место в его творчестве занимает любимая профессия:
«Любители чистой поэзии,
поклонники Венеры Милосской
и прочих муз и богинь,
а также все слабонервные,
отойдите в сторону:
я буду говорить о своей профессии.
Я патологоанатом,
а, попросту говоря, трупорез.
Передо мною возвышаются горы
человеческого мяса,
красного, синего, серого, розового,
напоминая фламандские натюрморты.
Когда я вижу классический инфаркт сердца,
я не удерживаюсь и восклицаю:
«Какая красота!»
Когда люди спят, тоскуют или смеются,
я могу точно сказать,
что у них происходит в печени.
Для меня шагреневая кожа
не символ и не абстракция,
а отложение извести в сосудах.
Никто лучше меня не знает,
что жизнь висит на волоске
и что смерть неизбежна…»
(«Моя профессия», 1964 г., цит. по [1])
С 1970 г. Л. Цыпкин начинает писать рассказы, не надеясь на их публикацию в будущем. Леонид Борисович снова и снова признается в любви своей профессии: «Мне стыдно сознаться, что я люблю вскрывать, хотя, с другой стороны, что тут постыдного — любить свою профессию? Вокруг меня царит напряженная и вместе с тем благоговейная, почти церковная тишина — врачи стоят где-то за моей спиной, робко заглядывая через мое плечо и лишь иногда перешептываясь, дядя Миша застыл с инструментами в руках, готовый по первому моему мановению броситься мне на помощь, Луиза, сидя за «протокольным» столиком и в который раз обмакнув перо в невыливайку, с тупой преданностью смотрит мне в рот, и если сейчас вместо фразы «Труп правильного телосложения» я продиктую ей «Вечер был, сверкали звезды», она, ни секунды не задумавшись, запишет и это» («Из записок патологоанатома», цит. по [1]).
Тема болезни и смерти является доминирующей в работах Леонида Борисовича, в основном автобиографических, а потому проникнутых собственными переживаниями и воспоминаниями, в которых его отец всегда занимал главное место. В рассказах «Мост через Нерочь» и «Из записок патологоанатома» он с ужасающей детализацией и особой врачебной отстраненностью вспоминает, как умирал близкий ему человек: «…он вдруг услышал голос матери, обращенный к нему: «У папы остановилось дыхание!» — она сказала это так, как будто сообщала ему, что его к телефону или что суп на столе…
… над изголовьем отца склонились две фигуры — кажется, ординаторы из его клиники — они пытались что-то сделать с отцом — один из них вводил резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. «Ровно двенадцать», — сказала мать, посмотрев на часы отца, и они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля…» («Мост через Нерочь», цит. по [1]). Эта сцена оставила неизгладимый отпечаток в памяти и сопровождала каждый день его работы: «… я просматриваю историю болезни умершего. Внимательно прочитываю диагноз (чтобы врачи ничего не приписали во время вскрытия), бегло просматриваю анамнез (написан формально — все равно нельзя верить), пропускаю протокол операции (почерк неразборчив — расспрошу) и с бьющимся сердцем вчитываюсь в последние дневниковые записи. «16 ч 30 мин. Состояние больного тяжелое, дыхание поверхностное; 18 ч 45 мин. Сознание затемнено, пульс слабый, неровный; 20 ч 15 мин. Больной агонизирует, зрачки почти не реагируют на свет…». С тех пор как у меня умер отец, какая-то неодолимая сила заставляет меня в каждой истории болезни снова и снова перечитывать эти записи, к которым раньше я относился безучастно, и за каждой такой записью, за каждой строкой оживает фигура моего умирающего отца» («Из записок патологоанатома», цит. по [1]).
Позднее критики отметили и реалистичные картины умирания Ф.М. Достоевского, воссозданные Леонидом Цыпкиным в самом его известном произведении «Лето в Бадене». Леонид Борисович никогда не писал «красиво», нарисованные его пером картины и образы иногда шокируют, иногда бывают неприятны, но всегда правдивы, исключительно точны и создают у читателя полный эффект присутствия. Это очень нелегкое чтение, оставляющее за собой потрясение и даже определенное раздражение, желание не соглашаться, спорить, требовать объяснений. Так пишут для себя, без надежды быть услышанным. В описаниях мотивов своих поступков Леонид Цыпкин проводит болезненный самоанализ и представляет его результаты на всеобщее обозрение, психологически обнажаясь перед публикой. Такая открытость не всем нравится и не всем интересна. Но без таких произведений трудно представить себе эпоху и создававших ее людей. Сьюзен Зонтаг писала, что «роман Цыпкина — превосходное путешествие по русской действительности. Советское прошлое, от Большого террора 1930-х до паломничества автора в конце 1970-х3, воспринимается так, словно все это — в порядке вещей, как ни странно звучит подобное заявление. Книга буквально пульсирует историей».
В семье Цыпкиных трепетно относились к русской литературе, а сам Леонид был чрезвычайно увлекающимся человеком. Многие годы он изучал творчество и жизнь Льва Толстого, а впоследствии сосредоточил свое внимание на сложной судьбе и произведениях Ф.В. Достоевского. Психопатологические аспекты творчества очень интересовали склонного, по воспоминаниям родственников, к эпизодическим депрессиям ученого. Наверное, именно поэтому личность Достоевского стала для него близкой, а его познание — задачей длиною в жизнь.
Над прославившим его романом «Лето в Бадене» Леонид Борисович начал работать в 70-х годах прошлого столетия. Путешествие Ф.М. Достоевского по Европе в 1867 г. и последние дни его жизни в 1881 г. легли в основу повествования от имени обычного советского человека, отправившегося поездом из Москвы в Ленинград и попутно читающего старое издание дневников Анны Григорьевны Достоевской. В книге Цыпкина переплетаются спокойное, хладнокровное описание молодой женой Достоевского поездки и связанных с ней злоключений, размышления автора о событиях тех времен, навеянных ими философских вопросах и современных на то время аналогиях. Роман действительно кардинально меняет устоявшееся представление об образе знаменитого русского писателя, с беспристрастностью патологоанатома выявляя все аномальное. Образ Достоевского, созданный в романе «Лето в Бадене», неприятен и в то же время выписан с уважением к болезненным слабостям нездорового человека. Параллельно с работой над романом Леонид Борисович подготовил фотоальбом, которым гордился и в котором собрал фотографии зданий и улиц, имевших отношение либо к жизни писателя, либо к его персонажам. Позднее этот фотоальбом гармонично дополнил труд, посвященный великому русскому писателю.
Дагне Берджайте видит много общего между персонажами Ф.М. Достоевского и Л. Цыпкиным, находя в самом звучании фамилии автора что-то «мышкинское». Она отмечает, что роман «Лето в Бадене» в первую очередь побуждает читать источники и, в частности, дневники Анны Григорьевны Достоевской. Сложный слог и особое отношение к пунктуации (в романе Л. Цыпкина около 7–8 фраз заканчиваются точкой, а первая появляется только на с. 44) она оправдывает особенностями текста исходного дневника супруги Достоевского: «Этот поток льется, словно у его автора, Анны Григорьевны, нет особых, разных по каждому поводу эмоций, и поэтому все это — без пауз, без точек… По-своему Цыпкин тоже пишет роман-дневник (хотя бы потому, что не уверен, прочтет ли его еще кто-нибудь). В этом контексте, возможно, он только для себя фиксирует те мысли, которые посетили его по дороге из Москвы в Петербург (вечное русское путешествие за истиной из настоящей столицы в столицу бывшую!)… то есть он записывает все и, кажется, без всякого порядка, одна тема растворяется в другой» [3].
В начале 1977 года в жизни семьи Цыпкиных снова наступает черная полоса: из-за эмиграции сына в США вынуждена уволиться с работы жена, а вскоре увольняют и Леонида Борисовича, правда, затем восстанавливают, но в меньшей должности. Все ожидают и от него подачи документов на выезд, в новые проекты не вовлекают. Практически полная социальная изоляция приводит к тому, что Л. Цыпкин вместе с женой решается на выезд из страны, несмотря на свою боязнь быть оторванным от привычной языковой и культурной среды, но дважды получает отказ.
Эта довольно типичная для того времени ситуация вызывает ассоциации с другими литературными персонажами. Так, Джон Бэнвилл, знаменитый ирландский романист и лауреат Буккеровской премии 2005 г., в романе «Prague Pictures» вспоминает свой первый визит в Прагу в начале 80-х годов и людей, с которым его свела судьба. Та же эпоха, тот же Восточный блок, те же микрофоны, вездесущие тайные агенты, схожие судьбы. Невероятно похожий на нашего героя немолодой человек, которого Бэнвилл уважительно называет Профессором: «И даже когда он стоял передо мной, я не смог сфокусировать на нем взгляд, будто внезапно в части моего сознания, отвечающей за запоминание изображения, появилась трещина. Думаю, причина в том, что он провел много лет, пытаясь остаться незамеченным властями, полицией, шпионами и информаторами, и «верхний слой» его внешности действительно стерся. В нем было что-то от актера, который только что смыл грим». У Профессора, как и у Леонида Цыпкина, единственный сын уехал в Америку, оставив родителей в сложной ситуации: из-за политических убеждений Профессор был уволен из университета и вместе с женой жил на скромную пенсию. «Глядя на него, на этот потертый плащ, бледные тонкие волосы и высокие славянские скулы, на эти трогательно безобидные очки, я спрашивал себя, а что я знаю о трудностях жизни этого человека, о хитростях, на которые ему приходилось пускаться на протяжении многих лет, чтобы сохранить самоуважение и чувство собственного достоинства, чтобы просто накормить и одеть себя, свою жену и сына» [6]. Читая биографию Леонида Цыпкина сегодня, задаешься теми же вопросами.
Иностранцы и сегодня с недоумением относятся к типичным для того времени в Советском Союзе и странах-саттелитах условиям быта простых граждан: «Я совершил первую оплошность вечера, спросив, сколько комнат в квартире. Профессор вздрогнул, а Марта в кухонном закутке горько фыркнула; эта комната и крошечная ванная далее по коридору ограничивали их жизненное пространство. «Наша кровать!», — сказала Марта, указывая деревянной ложкой на диван, где мы сидели. «Он раскладывается», — подтвердил Профессор, изящным жестом показывая, как именно это происходит. Я не знал куда деваться от стыда» [6]. Джон Бэнвилл пишет, что вернувшись в Западную Европу после этого грустного путешествия, сразу почувствовал себя счастливым, испытав облегчение, связанное с возвращением в привычный мир, но мысли о Профессоре и его жене, оставшихся внутри границ железного занавеса, заставили его почувствовать себя виноватым перед ними, теми, кто по-прежнему был несвободен: «У двери Марта пожала руку G. и попросила: «Передайте от меня привет Калифорнии»; для нас это прозвучало как прощание с неосуществимой мечтой. Не думаю, что Марте в конце концов удалось побывать в Америке, хотя не исключено, что она добилась своего. Несколько лет назад мы узнали, что Профессор умер. Как быстро прошлое становится прошлым!» [6].
Первые страницы романа «Лето в Бадене» опубликованы 13 марта 1982 г. в еженедельнике для эмигрантов «Новая газета», а 20 марта, через неделю после второго увольнения из института, в день своего рождения, Леонид Борисович Цыпкин умер. За границу книгу вывезли американские журналисты по просьбе Азария Мессера, который и способствовал ее публикации в «Новой газете».
С этого момента началась долгая дорога к успеху книги. Сначала были не отмеченные особой реакцией читателя публикации пострадавшего от литературной коррекции текста в газете, книга, изданная небольшим тиражом на деньги родственников, а также издание на немецком языке. Удивительно, что слава пришла к произведению, написанному чрезвычайно сложным русским языком, только после его перевода на английский. Именно это издание попало в руки Сьюзен Зонтаг, которая посчитала своим долгом популяризировать роман и выступила в качестве литературного агента умершего автора. С 70-х годов боровшаяся с роковой болезнью критик с пониманием отнеслась к творчеству неизвестного советского автора-врача. В 2001 году в журнале «The New Yorker» была опубликована ее судьбоносная для книги рецензия «Любить Достоевского». Сьюзен Зонтаг способствовала выходу романа в солидном американском издательстве New Directions и написала к нему предисловие. Так к Леониду Цыпкину пришла слава. На форумах читатели пытались разузнать, где можно найти русскоязычную версию его романа, что в то время было практически невозможно. Только в 2005 году было издано собрание сочинений автора. «Лето в Бадене» вышло в свет на испанском, французском, нидерландском, румынском, финском, норвежском, шведском, португальском, датском, китайском, турецком, хорватском, итальянском, греческом языках и иврите. Сегодня глубокое изучение творчества Ф.М. Достоевского в мире невозможно без труда нашего коллеги и бывшего соотечественника.
Сын Леонида Цыпкина, Михаил, ставший на новой родине политологом и сотрудником Отдела национальной безопасности Центра современных конфликтов Военно-морской школы в г. Монтерей (США) и опубликовавший ряд аналитических книг, так сказал о своем отце: «…он был соткан из противоречий, страстей и пристрастий своего места и времени, слишком сильно эти место и время чувствовал, точно их запечатлел и принадлежал только им» [1].
Оглянитесь. Возможно, за соседним столом, заваленном стопками историй болезней, сидит человек, о котором Вы будете рассказывать внукам. Еще одна легенда замедленного действия.
Источники
- Цыпкин Л. «Лето в Бадене» и другие сочинения / Л. Цыпкин. – М.:Новое литературное обозрение, 2005. – 648 с.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Цыпкин,_Леонид_Борисович [Просмотрено 20.09.2010]
- Beržaite D. О литературе и любви (Л. Цыпкин. Лето в Бадене) / Beržaite D. / Literature (Literatūra). – 2008. – № 50 (2). – С. 53–63.
- Ревзина О. Хронотоп в современном романе: www.danefae.org/lib/ogrevzina [Просмотрено 20.09.2010]
- Fanger D. Summer in Baden-Baden: Leonid Tsypkin`s. From the life of Dostoevsky. http://www.opendemocracy.net/arts-Literature/article_449.jsp [Просмотрено 20.09.2010]
- Бэнвилл Д. Прага. Мистические зарисовки (Серия: Весь мир в кармане) / Д. Бэнвилл / Пер. с англ. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Изд-во Мидгард, 2005. – 320 с.

